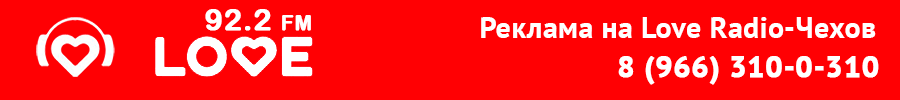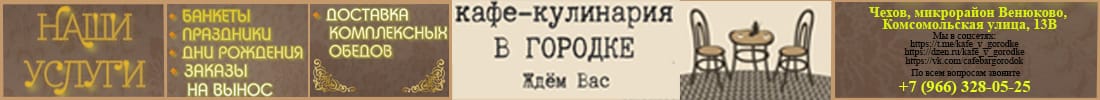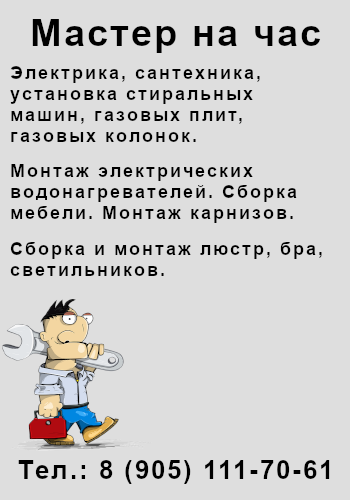В архивных документах о трудовой занятости крестьянок сёл и деревень Бавыкинской волости Серпуховского уезда второй половины XIX в. регулярно встречается выражение – «шёлк мотают». Действительно, в нашей местности в течение многих десятилетий это был один из основных женских промыслов.
Атлас, шифон, парча, муслин, тафта, фуляр, дюпон, эксельсиор – это лишь несколько из десятков видов натуральных шёлковых тканей, веками радовавших женщин. В России расцвет их производства пришёлся на середину XIXв., когда в Московской губернии работали десятки шелкоткацких фабрик. Шёлк-сырец закупался, в основном, в Китае и Средней Азии. Крупных фабрик по его переработке и изготовлению пригодной для ткачества пряжи было мало, а спрос на неё большой.
Поэтому был стимул развивать «шелкомотальный» промысел, которым занимались тысячи крестьянок Московской губернии. Суть его довольно проста: тщательно разматывать закупавшиеся в южных странах большие мотки шёлка-сырца, сортировать его и перематывать на стандартные катушки пряжу, которая после дополнительной обработки и окраски шла в ткацкое производство.
Сохранились отчёты специалистов земства Серпуховского уезда за 1876 г. с достаточно подробным описанием этого промысла в 12 селениях Бавыкинской волости, расположенных в радиусе 5-6 вёрст вокруг Вознесенской Давидовой пустыни. Среди них: Бавыкино, Баранцево, Горки, Голыгино, Плешкино, Попово, Малицы, Пешково, Завалипьево, Верхнее Пикалово, Мантюхино и Мошонки. Всего в них было 42 шелкоразмоточных «заведения», которые представляли из себя кустарные мини-производства, где работали, в основном, члены крестьянских семей. Наёмных работниц было до 4-5 на одно «заведение». В каждом из них использовались от одного до нескольких довольно сложных шелкоразмоточных станков, которые именовались «карасями» и приводились в действие вручную.
Причины занятия крестьян этим и другими промыслами были характерны для Лопасненского края: тяжесть налогов, скудные для земледелия почвы, малоземелье, низкая урожайность хлебов, малое количество скота. Почти всем семьям приходилось ежегодно прикупать для пропитания хлеб (на 10 руб. для 1 едока в год), т.к. своего хватало до Рождества, максимум – до Пасхи. В ряде селений не было своих дров для отопления – на зиму средний двор вынужден был покупать их на 15-20 рублей.
Наиболее активно шла работа в Бавыкине и Горках. Шелкоразмотка была достаточно прибыльным промыслом для сельских предпринимателей и давала возможность нанятым ими крестьянкам зарабатывать так необходимые «живые» деньги, особенно когда не было полевых работ. Например, житель Бавыкина, московский купец 2-й гильдии Михей Серебров занимался этим промыслом с 1860-х гг. У него работали 4 шелкоразмоточных станка («карася»). В год члены его семьи и 8 работниц выдавали 50-60 пудов готовой продукции. Её реализация давала чистой прибыли от 1200 руб. до 3000 руб.
Большинство крестьян, владельцев 1-2 станков-«карасей», продолжали считать своим основным занятием земледелие. Хотя их промысел давал до 400 руб. прибыли, что намного превышало годовой доход среднего крестьянского хозяйства. Только в одном месте Бавыкинской волости шелкоразмоточное производство считалось главным занятием – это «выселки» близ сельца Горки. Здесь 7 семей мещан-старообрядцев вообще не занимались сельским хозяйством, но жили значительно лучше соседей-крестьян, т.к. платили меньше разных податей. Например, серпуховской купец Иван Кулешов производил 40 пудов пряжи (прибыль до 2000 руб.), а Настасья Рогова – 60 пудов (до 3000 руб. прибыли). Остальные, имевшие по 1 станку, получали от 400 до 1000 руб. прибыли.
Для сравнения: крестьяне, уходившие работать булочниками в Москве, получали 5-10 руб. в месяц (на хозяйских харчах), набойщики ситца на фабрике Кочетковых в Крюкове – 40-50 коп. в день, а начальное жалованье учителя земской школы составляло 240 руб. в год.
В те времена наёмные работницы (в основном, девушки) работали в большинстве случаев с 5 часов утра до 5 часов вечера, а у некоторых хозяев – с 5 утра до 9 часов вечера с двумя перерывами на 1 час. Плата работницам: во время ученичества (в течение 2-3 лет) по 6-8 руб., а мастерицам до 20 - 26 руб. (на хозяйских харчах) за весь период найма – «от св. Сергия (8 октября) до Пасхи», т.е. за 6-7 месяцев.
Вот как современник (1882 г.) описывал положение работниц:
«…Далеко не завидным является положение наёмных мотальщиц. Правда, в мотальне обыкновенно светло, просторно и не душно; но 16-ти часовой труд губительным образом действует на здоровье мотальщиц.
…Спят в той же комнате, где и работают. Обыкновенно спят на постельниках, состоящих из холщовых мешков, набитых соломой, но нередко – и прямо на полу, бросивши под себя что-нибудь из одежды.
…Шёлк мотают преимущественно девушки 12-20 лет, встречаются иногда и 40-летние старухи (!?). Несмотря на своё сравнительно плохое зрение и меньшую способность к работе, они получают такую же плату, как и молодые мастерицы. Этот факт объясняется тем, что, хотя старухи работают медленнее, но зато они постояннее и настойчивее мотают шёлк, «не балуют», не рвутся пошалить и убежать от работы, как молодые мотальщицы».
Юрий Кобяков, «Читают Все»